Преодолеть запрет на самоописание
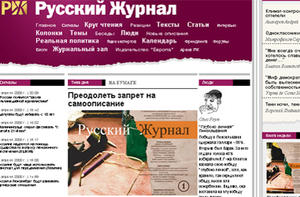
От редакции: На этой неделе увидел свет первый пилотный номер рабочих тетрадей "Русского журнала". О целях и задачах, о культурной и политической миссии журнала, а также о современной российской журналистике мы побеседовали с главным редактором издания Глебом Павловским и шеф-редактором Борисом Межуевым.
Электронный "Русский Журнал": Какие цели ставит перед собой издание? Каков его формат? В чем новизна проекта под названием "Русский журнал. Рабочие тетради"?
Борис Межуев: Важнейшая цель журнала - конституировать новый формат текстов, не востребованный до сих пор в русской публицистике. Я называю это жанром "интеллектуальных расследований". Речь идет об артикуляции интеллектуального содержания проблемы методами аналитической журналистики. Мы исходим из посылки, что любую проблему общественной жизни можно рассмотреть не через описание фактов, а через описание идей, коллизий, скрывающихся за теми или иными фактами. Этот формат текстов, кстати, является нормальным жанром для американской политической публицистики, но он полностью отсутствует у нас.
Одна из таких тем - это проблема интеллектуальных сетей в обществе. Понятно, что и политику, и экономику, и культуру делают сообщества. Причем не обязательно сообщества единомышленников, но людей, объединенных между собой дружескими, родовыми, национальными, религиозными и другими типами связей, в любой из которых наличествует и своя идеологическая сторона.
Мы, создатели журнала, исходим из того посыла, что основанием для интеллектуального расследования является любой факт общественной жизни. Например, выход книги. Для нас это не просто повод описать, стоит или не стоит читать эту книгу, а возможность провести исследование самой проблемы, связанной с тем или иным текстом, тем или иным изданием.
Такого рода интеллектуальное расследование должно быть построено и вокруг документов, имеющих принципиальный характер, являющихся центром общественной дискуссии. В частности, таким документом является "Стратегия - 2020", подготовленная в Министерстве экономического развития и торговли. Нам интересно посмотреть, из каких теоретических предпосылок исходят люди, когда производят такого рода документы. Никто у нас этим никогда не занимался. Вот Кирилл Бенедиктов в своем исследовании документа МЭРТа, опубликованном в вышедшем в свет первом номере журнала, обнаружил, что в нем пересекаются по меньшей мере три подхода, два из которых - институциональный и проектный - только формируются, и, по всей видимости, они и будут определять экономическое проектирование при новом руководстве. Общественная жизнь - это лес, а идеи в нем - как грибы. Их просто нужно уметь искать. Если мы их найдем, то наша задача как журналистов будет достигнута.
Следует полностью отказаться от стиля журналистики 90-х годов, который в конечном счете привел к тому, что от каждого второго человека слышишь, что жить-де стало скучно, в России играют роль только деньги и т.д. Подобный набор клише часто скрывает за собой не столько истинное положение дел, сколько нежелание присматриваться к реальности. Безусловно, в жизни играют роль и деньги, и корысть, и зависть, и аппаратные игры, но у жизни имеется и иное измерение.
Общественное сознание России лишено механизма самоописания. Всегда было к тому же обидно, что об Америке писать легче и проще, чем о собственной стране.
РЖ: Что такое интеллектуальная журналистика для вас? Это новый метод или новая реальность?
Б.М.: Самый банальный ответ, как всегда, самый верный: и то, и другое. Будучи до некоторой степени неокантианцем, я исхожу при рассмотрении социальных проблем из единства метода и бытия. На мой взгляд, методология описания творит саму реальность. Если смотреть на мир глазами экономико-ориентированного эксперта, то и мир окажется таким, какой он предстает в статьях, например, Юлии Латыниной. Если ты смотришь на мир через 90-е, то и мир становится как в 90-е годы, когда экономика первична, все остальное вторично, а культура на последней полосе как праздное отдохновение (или постмодернистский прикол) после оторванных от всякой культуры экономики и политики. А экономика, согласно этому методу описания, - это то, как ее мыслят "правильные ребята" в отличие от "дураков", которые не прочитали "правильные" книжки... Отсюда, кстати, и возникла странная лексика в духе "на самом деле", "невменяемый подход". В итоге мир свелся к черно-белому формату, квазимарксистскому (точнее, палеомарксистскому) в своем основании: есть общественное бытие, имеющее почему-то один образ описания, и совершенное, отдельно существующее от него общественное сознание, которое не вмешивается в бытие и в его описание. Попытки же вмешательства, согласно этой экономикоцентричной логике, расцениваются крайне отрицательно.
Этот мир 90-х никуда не делся. Он продолжает существовать в жанре, который я называю жанром "экспертных комментариев". Я слабо разбираюсь в экономике, но удивительно то, что по-английски мне читать об экономике легче и понятнее, чем по-русски. Во многом потому, что американские эксперты не скрывают своих идеологических и, главное, теоретических подходов к экономике, описывая через них как свои позиции, так и позиции оппонентов. Ведь та же экономика, как и всякая другая сфера общественной жизни, пронизана целым рядом идейных коллизий, идейных дискуссий, из которой на диаматовско-истматовском уровне невозможно выбрать "правильную" и "неправильную" точку зрения по типу точных наук XIX века.
Безусловно, в моей позиции есть момент искусственности - некой большей идеологизации и проблематизации реальности, чем это есть на самом деле. Этот момент неизбежен. Я допускаю, что за различием между институционалистами и проектантами, о котором пишет Кирилл Бенедиктов в своей статье ( Дебаты в "нулевом чтении". Концепция МЭРТа в борьбе экспертных идеологий // Русский журнал, #1, 2008, с.37-49), стоят аппаратные коллизии и личные амбиции. Но выделение и артикуляция этих позиций может заставить людей определять свои позиции в соответствии с этими основаниями в большей степени, чем в соответствии с какими-либо аппаратными соображениями.
Глеб Павловский: В отличие от Бориса, я не являюсь неокантианцем. Наша власть - неокантианец. Она считает, что описание реальности нужно контролировать, потому что оно создает саму реальность. В чем-то она права. Но только в чем-то.
На самом деле это две разные плоскости - описание реальности и сама реальность. У нас проблема и с тем, и с другим. В журналистике отсутствуют честные описания. Это давняя проблема, возникшая еще в советское время при расщеплении мира описания сперва на официальные и неофициальные. Эта проблема поразила в конечном итоге и неофициальные описания, авторы которых поверили: то, что они описывают, существует на самом деле. Кроме этого, у нас проблема с никоим образом не описанной реальностью.
И третья, самая главная проблема: мы при всем этом живем и прекрасно ориентируемся в реальности, все более элиминируя ее проблемную, интеллектуальную составляющую. Ни в одну эпоху мы не переставали действовать, не понимая, что происходит. Мы просто снижали уровень запросов к описаниям, к методологии, в том числе и в резкой форме, буквально вымарывая поля слишком сложных описаний и связанных с этим культур, в рамках которых они осуществлялись. Не только неокантианцы, но и целые школы культур нарратива и критики нарратива были пропущены в нашей стране. Что не означает при этом нашего бездействия.
Пастернак писал о дураке, герое и интеллигенте. Исчезновение интеллигента отнюдь не затронуло дурака, причем дурака в том смысле, в каком имел в виду Пастернак: крайне народолюбивого в принципе, абсолютно отделенного от предмета своей любви, заинтересованного в этой отделенности и комфортабельно существующего в ней.
Не углубляясь далеко: у нас есть двадцать лет безмозглого существования, во время которых мы действовали, прибегая инструментально, манипулятивно, искренне к самым разным культурам и школам, заимствуя разные виды описания применительно к случаю. Можно, конечно, попытать Гавриила Харитоновича Попова: откуда он достал "административно-командную систему"? Он мог выбирать, но позаимствовал именно этот концепт, а не "новый класс" или что-либо еще. И сгодилось. И живем. И нормально.
В принципе, неосознанной интеллектуальной сетью были герои гласности и перестройки. Они представляли собой достаточно плотную, густую сеть с крайне лимитированными пределами обращения к школам, уже не говоря о практическом отсутствии саморефлексии. Другой сети, которая была готова предъявить себя в интеллектуальном процессе, в то время не нашлось. Была взята эта. Последующие 20 лет представляют собой непрерывный континуум действия, причем действия, имеющего колоссальные культурные, социальные, государственные и мировые последствия. Мы считали, что больших последствий, чем в 1991 году, не будет. Сегодня мы опять подходим к периоду, когда последствия могут быть колоссальными: мы переформатировались, мы восстановились, мы оперируем колоссальными ресурсами, но интеллектуально мы находимся на докритическом уровне.
Трудно понять, на каком интеллектуальном уровне мы обсуждаем наши собственные действия. У нас есть стратегия, у нас есть культура проектирования, просто мы их не осознаем и не рефлектируем. И уж тем более не обсуждаем альтернативы каждого хода. Мы обсуждаем только свершившиеся факты. Это очень легко, потому что интерпретация свершившихся фактов возможна на добиблейском уровне: такой-то возжелал денег и взял их, а ничего не сделал. В принципе, это пребывание вне мирового исторического процесса с колоссальными последствиями для самого процесса. Существование такого острова, который исключен из мирового интеллектуального и нравственного существования, не может продлиться долго.
Мы компенсировали нехватку обсуждения практической рефлексией. С ельцинской моделью мы зашли не туда, но обсуждать ее мы себе запрещали. Публичная политика отсутствовала. Анализ модели отсутствовал. Присутствовали неприемлемые, заранее маркированные антиельцинские позиции. Мы вышли из этой ситуации с помощью путинской модели, которая была своего рода практической рефлексией, ускользавшей от обсуждения. Это было необходимо для функционирования самой модели. Надо было трясти, а не обсуждать.
В итоге мы сейчас пришли к периоду, по крайней мере интеллектуально, между 1983 и 1986 годами. Мы получили возможность ограниченно переиграть неудачный старт того, что одни назовут европеизацией, другие - контрреволюцией на Октябрь или, как говорил Пушкин, контрреволюцией на революцию Петра. Мы находимся в том проблемном узле, но с другими ресурсами, другим миром: с одной стороны, рухнувшей, потенциально благоприятной интеллектуальной общественной средой, низовой политической культурой, а с другой стороны, с большим количеством новых сред и сетей, которые могут рассматриваться как интеллектуальные. Но заняты они в основном борьбой с другими средами за ресурсы, влияние на власть и на управление.
За прошедшие двадцать лет я обращался к некоему идеальному читателю, к некой идеальной интеллектуальной среде, по определению одной. Эта модель была задана советским и, что то же самое, диссидентским опытом и идеей единого просвещаемого общества, которое закрыто и ждет просвещения. Сегодня задача в том, чтобы решиться на множество разных противоречивых разговоров, которые поначалу будут сбивать язык друг друга. Но нужно сохранить опыт практической рефлексии, опыт последних двадцати лет, которые сберегли тренд поздних советских лет - тренд недопущения тотальной катастрофы. Ведь главный предмет поздней советской мысли - как избежать второго 1917 года, не жертвуя ценностями, социальной солидарностью, интеллектуальной глубиной и русской культурой в принципе, как избежать такого яркого проявления и соединения этого всего вместе, каким был Октябрь 1917 года.
Мы провели эту игру практически, может быть, лучше, чем интеллектуально. Задача ума - догнать нашу собственную деятельность, наши собственные импровизации, которые, сохраняя свой внеинтеллектуальный и даже антиинтеллектуальный пафос и непубличный статус, угрожают результатам, которые были достигнуты, и всему миру.
РЖ: Догнать и перегнать?
Г.П.: Догнать и перепродумать заново. Перепродумать итоги двадцатилетия - значит, самим себе открыть ход в будущее.
Б.М.: Вы считаете, что итог деятельности все-таки позитивен в плане всеобщего алармизма предстоящего будущего, того, что косвенно описывается термином "двоевластие"? Можно ли такой итог именно в контексте недопущения катастрофы 1917 года назвать успешным?
Г.П.: Для бытового сознания 91-й год является колоссальным поражением, в том числе и интеллектуальным, которое до сих пор не осмыслено и не продумано даже и западной мыслью (при всей ее мощи это ее слабое место). В первой половине 90-х годов в Югославии в большинстве своем были уверены, что обстоятельства ужасны и недопустимы. Они получили нынешнее состояние Югославии, равное ее отсутствию.
Поэтому вопрос о том, насколько ужасен и неприемлем 91-й год, нужно рассматривать в ином контексте. Действия после 91-го года в некоторых сравнениях были невероятно успешными. Всеми проклятое СНГ оказалось сверхэффективным механизмом устранения войн, которое может отчитаться тем, что их нет. Утверждение, что их и не было бы, основывается на неизвестных основаниях. Таджикистан с 92-го года - это орден, который Россия может прицепить себе на грудь: прекращена гражданская война, выстроена хлипкая, но функционирующая полудемократическая система, в которой все находят себе место для жизни. Это невероятный успех, по азиатским понятиям. В принципе, весь постсоветский мир, чем дальше весь остальной мир движется к деструкции прежних институтов, начинает казаться оазисом, а не зоной беды. Уже сегодня его разрушенность является относительной на фоне того, что накапливается по краям. Через некоторое время он может оказаться зоной счастья на этом фоне.
Случайно выиграв или бессознательно преуспев, ты можешь все потерять в силу того, что ты просто не понимаешь, за счет чего держится твой успех, откуда берутся ресурсы и до каких пределов они работают. Мы сейчас находимся в этой точке. Мы можем двинуться дальше из этого нового условного старта. Но нужно осознать, из чего он состоит. Оставив эту тему за гранью обсуждения, ты рискуешь тем, что она тебя достанет.
Поэтому сегодня и самые большие риски, и самые большие надежды находятся в зоне публичной русской речи, которой сегодня нет, которая не состоялась, которая крайне проблемна. Здесь, в сущности, надо начинать с мычания. Надо пробовать, надо пытаться выйти из комы, в которой мы оперируем ярлычками и маркерами проблем, но не самими проблемами.
Я совершенно не согласен с позицией Бориса об искусственной проблематизации. Предотвратили теракт, убили человека - это проблема. Но она загнана под некий транквилизирующий слой, который рос с 80-х годов. Он сильнее Кремля, он сильнее Путина. Эта страсть, эта энергетика, этот импульс вытеснения проблем превратились в традицию, стали частью российской политической культуры, ее страшной частью. Не нужно искусственно приписывать проблемность реальности. Нужно начать ее приоткрывать, выводить из-под давления. В этом смысле я не согласен с тем, что проблема только в методологии описания. Мы имеем дело с формой аутизма культур, которая, как любая форма развития, находит основание в высоких свойствах культуры.
Последние двадцать лет, когда наш писатель, политик, эксперт, получил возможность взаимодействовать, соприкасаться с другой реальностью напрямую, имеет возможность ее описывать, он перестал это делать. Он может выехать, но он не привозит описания того, что он видел. Он живет в каком-то мире, описываемом его собственными предпосылками, формами. У нас нет описания, например, итальянской политической жизни. Есть только Берлускони. Описание американской политической жизни у нас есть, но в жанре интриги на коммунальной квартире...
Б.М.: У нас случился также и провал теоретической политологии. Все 90-е годы происходил подъем транзитологии, рецепция западных идей, обсуждались возможности сделки, пакта между элитами в качестве предпосылки демократизации в русле мягкой либеральной критики ельцинского режима. А потом это куда-то ушло. Люди, которые были носителями этого знания, внезапно (и притом в самый подходящий для разговора момент) перестали об этом говорить. Как воды в рот набрали.
Г.П.: Я тоже не могу это объяснить. Но здесь, видимо, тоже есть своя логика. Ровно то же самое произошло с утонченной, развитой и сложной дискуссией 60-70-х годов по поводу способов новой формы "политического", которая бы не допустила фрагментации политической сцены и прямого столкновения на народнической основе. Дискуссия втягивала в себя и западные, и внутренние слои интеллектуалов. В начале 80-х дискуссия исчезает. Не могу сказать, чтобы КГБ интересовалось этой дискуссией. Дискуссия просто провалилась. А люди при этом остались, но от них словно ушел проблемный контекст. И потом, когда пришла значительно более примитивная когорта шестидесятников, которые не участвовали в этой дискуссии вообще и воспроизвели сильно упрощенные тезисы 60-х годов, они и оказались властелинами дискурса. А те, кто участвовал в дискуссии, молчали.
Происходят какие-то провалы. Вываливаются интеллектуальные сети, когорты интеллектуалов. Может быть, имеет смысл посмотреть назад. Ведь в любой, даже в самый жесткий период переплетался официоз и неофициоз.
РЖ: А что такое этот "аутизм"? Предполагается ли в журнале интеллектуальное описание русского аутизма?
Г.П.: Это очень интересная и сложная задача.
Ужас состоит в том, что такие описания есть и полностью проигнорированы в разное время. Например, Симон Кордонский, который уже двадцать лет в своих текстах описывает ужимки и приемы русских способов ухода от реальности. Есть книга, к моему стыду только недавно мной открытая, Нэнси Рис "Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки" (М., НЛО, 2005), описывающая ту методологию русских разговоров о политике, которая делает их бессмысленными, пустыми и разрушительными. В сущности, книгу можно было бы назвать "Опыт русской деструктивности".
Все это почему-то не влияет на способ взаимодействия речи и политики, и почему-то оказывается возможным обходиться без этого. Всему этому ведь есть причины. В своей редакционной статье в журнале (Возобновление диалога // Русский журнал. #1, 2008, с.1) я несколько хулигански заметил, что мы все время жаловались на отсутствие дискуссии, и при этом нас это прекрасно устраивало. Мы действовали. Более того, если мы не могли обойти тот или иной блокпост на дебатах, мы просто высылали диверсанта и практически убирали его тем или иным способом. Последние двадцать лет в ряде случаев, когда дискуссия заходила в тупик, некий авангард, возникавший в этом тупике, устраивал некий финт и разблокировал движение. Но разблокировал не интеллектуально, а, точнее, прилагая интеллектуальные усилия для того, чтобы другие не поняли, что происходит. Это срабатывало на опережение. В принципе, это нормальная тактика интеллектуальных комьюнити. Но происходило это не на страницах солидных интеллектуальных журналов, которых просто не было в те годы, а в реальной политике.
РЖ: А кому принадлежит публичная речь, которая не касается политики?
Г.П.: Публичная речь, естественно, принадлежит лидерской команде, которая владеет ключами доступа входа в очередной политический портал. Если ты член команды, то ты можешь войти в портал и можешь назначать интеллектуалов. Можешь начать с себя, а можешь - с Солженицына, академика Лихачева или Сахарова. Все остальные презентации интеллектуалов не срабатывают или используются как частная валюта в рамках одной интеллектуальной сети.
Фигуры "public philosophy" у нас нет. Попытка создать такую фигуру, однако без формулирования такой задачи, была у Владислава Суркова. И эта попытка была возможна только потому, что он был заместителем руководителя Администрации президента, который практиковал нечто странное для заместителя руководителя Администрации президента. Изначально это было нарушение неформальных правил игры.
Б.М.: Меня в связи с этим удивляет ситуация, сложившаяся вокруг обсуждения программной статьи Роберта Кейгана. (Мы совсем недавно провели дискуссию на "американской" страничке "Русского журнала".) Реакция философов: Кейган - это шарлатан, который желает уничтожить Китай, потому что ему нужна пресная вода. То есть философы говорят что угодно, кроме того, что относится непосредственно к их роду занятий. Все лезут в сферу экспертов по частным вопросам, начиная объяснять позицию Кейгана или любую позицию подобного толка массой аппаратных и иных предпосылок, которые на самом деле к делу совершенно не относятся. Вместо того чтобы защитить, именно философски защитить альтернативную Кейгану позицию, на что, собственно, и провоцирует нас этот человек.
Г.П.: Ровно таким же образом шли дискуссии эпохи предрасширения НАТО, когда формировалась идея победы в "холодной войне". Никто не пытался включиться в эту дискуссию. Ее просто не существовало. Такое ощущение, что мы, как сквозь соломенную крышу, провалились, обнаружив, что оказались среди господ, которые что-то обсуждают, причем не выслушав нас и наших экспертов. Видимо, они протягивают свои жадные руки к Байкалу или Хуанхэ. В этой позиции есть элемент дикарского изумления обнаружения реальности там, где не предполагалось ее существование. Полное отсутствие ощущения разных иерархий и статусов. Какой еще Кейган? Есть президент, который все решает.
Это ситуация нормального невежества. Но вокруг этого наверчены амбиции. Люди просто не могут признать, что мы двадцать лет ничего не изучали. Ландшафт провалов, слепых пятен, системы умолчаний "своего" не дают возможность ничего понять о "чужом". Весь набор предъявленных сегодня моделей, штампов, фрагментов дискуссий и экспертных мнений - это набивка чучела. Он заполняет пустое пространство, в котором интеллект не действует. По каким-то причинам интеллект отказался действовать и заполняет это разными продуктами своего довольного плоского воображения. Чего стоит наша дискуссия об американской политкорректности! Мы ничего о ней не знаем, но обсуждаем, нужна она или не нужна. Говоря при этом, что "они" - дураки, хотя и живут в нормальном обществе. Это говорят те же люди, которые, кстати, считают, что "мы" - не дураки, но живем в ненормальном обществе. Поэтому нам что-то должны, мы заслуживаем приза от истории.
Собственно, самый главный недостаток вышедшего "Русского журнала" в том, что он не дает обзора самому провалу, в котором находимся мы все, в том числе и издающие этот журнал. Ведь очень трудно быть умнее своего контекста. Можно что-то корректировать, но не тотально. Миры невежеств колоссальны. И они, кстати, прекрасно совместились с постмодернистской картой, так как постмодернизм вообще прекрасно относится к критике постмодернизма.
РЖ: Глеб Олегович упомянул о "честных описаниях", Борис говорит об "интеллектуальных расследованиях". Эти два понятия коррелируют между собой?
Г.П.: С моей точки зрения - да. И первое, и второе блистает своим отсутствием сегодня. Нет ни интеллектуальных расследований, ни честных описаний. Когда Андрей Левкин затевал "Новые описания" в интернет-РЖ, он ссылался на позднесоветскую культуру тартуских семиотических сборников. Там присутствовали, но в качестве маргиналий, тексты, например - "Семиотика дачи", "Семиотика отпуска" и т.п. Для них не было места в единственном тогда виде журналистики - в толстой журналистике. Они могли появиться только как короткий рассказ или как очерк, но с большим трудом, так как очерк уже находился под лупой и считался политическим жанром. Были отдельные маргиналии и в самиздате - попытки описать экономии дефицита. Этого было довольно мало. И уже тогда было ясно, что наша культура всего этого не любит.
Интеллектуальные расследования же почти не были представлены. Наверняка что-то было, но даже трудно вспомнить, что именно. Этого точно совершенно не было в перестройку. Мы хотели узкой группой - Гусейнов, Драгунский, Кордонский, Павловский, Цымбурский - издавать регулярные сборники "Реальность", посвященные расследованиям продуцентов идеологического, политического, экономического активизма. Оказалось, что это крайне невыгодно и нерентабельно, и в итоге это мягко сдрейфовало в информагентство "Постфактум".
Были отдельные описания в журнале "Век ХХ и мир", которые стимулировались наличием западных жанров. Я ориентировался на американские образцы. Идеологом всего этого в среде, связанной с "Русским журналом", был Симон Кордонский. Но у него не было средств.
Главное в том, что все опережали самих себя в практических действиях и отставали в описании модели собственного действия. Эти ножницы были между собой связаны. Я подозреваю, что это своеобразная культура. Люди выстраивали очаги выживания, сверхуспешного выживания, иногда очаги экспансии, но собственное описание они табуировали. Я хорошо помню слова, сказанные Володей Яковлевым на редколлегии одного из первых номеров "Коммерсанта": "Ребята, не надо так копать, мы издаем журнал для деловых людей, а не для прокуратуры. Не надо вытаскивать схемы налоговой оптимизации, офшоры и т.п.". Запрет на самоописание был заложен именно модельно.
Б.М.: Одну модель самоописания все-таки стоит назвать - это "Неприкосновенный запас". В этом журнале была большая подборка о Серафимовском клубе, где основную роль играл, по-моему, Андрей Колесников. Какая-то попытка саморефлексии там была, безусловно.
Г.П.: Спорадически она там есть, как и в ряде других мест. Иногда ее можно найти в провинциальных ученых записках, иногда - в политологических журналах и тех журналах, которые я издавал в 90-е годы. Но это никогда не осознавалось как обязательное условие разговора.
"НЗ" не строится вокруг этого принципа. Возможно, он будет мигрировать в эту сторону в ближайшем будущем. Но сегодня при открывании каждого номера у меня возникает ощущение презумпции интеллектуальной самодостаточности: мы все умные и расскажем вам о... Вы еще не знали о Ричарде Рорти? Мы вам расскажем. По тому же принципу строилось описание, кстати, Серафимовского клуба. Это некий снобизм, не личный, а заложенный в модель либерального интеллектуализма. Это очень густо заметно в "Синем диване" Елены Петровской. И это приравнивается к интеллектуализму и к статусу интеллектуала, который осуществляет выбор и ангажирован своим статусом. Это то, чего нет на Западе.
Кроме того, отсутствуют боксерские площадки. Нет публичных площадок, соответственно, нет торга, нет интеллектуального обмена. Поэтому нельзя прояснить ничью ценность и выяснить чью-либо конвертируемость. Это идеальная ситуация для фальшивок.
Я сомневаюсь, что такой площадкой может быть бумажный журнал. Но ее элементом везде, где есть публичная сфера, является журнал, предполагающий интеллектуальные расследования.
Беседовали Ирина Чечель и Любовь Ульянова































