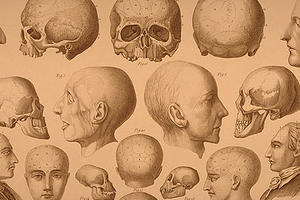
Как будто в политических и философских кругах назрела очень полезная дискуссия, спровоцированная статьей Александра Морозова, об этических основаниях политических действий, как будто кантианская этика может еще служить образцом для универсальной или, как сейчас принято писать, «общественной» морали, как будто понятия долга и достоинства, если стряхнуть с них пыль, могут сослужить какую-то службу? А может, ее не надо вспоминать, может это Кант говорит с нами (продолжим традиции прикладного спиритуализма) устами модели из телевизионной рекламы, призывно восклицающей: «Ты достоин большего»? А вдруг лохмотья именно кантианских текстов мы находим в дежурных речах наших политических деятелей?
А вдруг это Кант организует гей-парады и заставляет употреблять антидепрессанты? В любом случае, несомненно то, что представления Канта о морали – действительно самый одиозный и провокационный философский этический проект со времен стоиков и обойти его вниманием, несомненно, не представляется возможным никакому философу. Итак, наберемся дерзости и концентрированно изложим только две из возможных линий оппонирования неискушенному предложению актуализации этики Канта в форме «общественной», универсалистской морали: это проблемные пункты критики практического разума «самой по себе» и та усовершенствованная модель либеральной этики, которая вырастает из нее в двадцатом веке, в форме теории справедливости Ролза.
1.
Для начала попробуем резюмировать то, что давно известно про кантианскую этику в европах. Попытаемся, хотя это очень сложно, оставить в стороне центральную линию антипросветительской критики, ведущей наступление на главенствующее положение разума в этической программе Канта, потому что она оказывается всегда весьма двусмысленной и противоречащей собственным намерениям, и сосредоточимся на критике важных деталей этой теории.
Интересно, что понятие субъекта от Фихте до Бадью как тень сопровождает метафора пустоты. Это следствие формального определения доброй воли - «воля волит волю», субъект практического действия вводится как автономный, сам для себя устанавливающий закон. Здесь возврат и откат от драматического противостояния воли и знания, сформулированного апостолом Павлом «что хочу – не делаю, что не хочу – делаю» к наивному представлению Сократа об их эквивалентности, с той большой разницей, что уже невозможно связать знание и волю посредством души. Поэтому в самой сердцевине трансцендентального субъекта зияет пустота. Идея автономного самотождественного «я» является контркоммуникативной, это эго, которому нет дела до другого, оно принципиально не нуждается в другом. Именно Кант вводит бессмысленное и соблазнительное определение свободы как чистого отрицания, пустой негации и протеста, как «свободу от», потому что никогда прежде нравственность не связывалась с внутренней свободой личности без каких-либо внешних посылок, мораль должна быть утверждена «без какой-либо опоры на небе и на земле».
Вторым уязвимым пунктом оказывается идея долга. Начиная с Фихте и заканчивая Макинтайром и Рикером, Канту предъявлялся справедливый упрек в автоматичности и принудительности определения свободы как следования долгу. Можно представить, что каждый из нас с какой-то стати оказался связан тяжелыми долговыми обязательствами неизвестно перед кем. Долг – это груз железного дровосека, рыцаря без страха и упрека, сокрушающего и выводящего за скобки любое движение жалости и милости. Этика долга — это милитаристская этика или идеальная этика бюрократа.
И, наконец, самым спорным моментом в этике Канта оказывается странное представление о счастье без счастья, антагонизм между желанием счастья и долгом. Исходя из требования автономии я должен хотеть того, чего я не желаю и желать того, чего я не хочу. Не из этого ли зародыша развиваются потом теории иллюзорного, ложного сознания, концепции отчуждения Маркса, Ницше, Фрейда?
2.
Гораздо более интересным оказывается этот запрос на «общественную мораль», масштабный поворот современных этических дискуссий от традиционных тем, обозначенных рубриками «метаэтика», «этика личности» к процедурным, ситуационным или, как они часто обозначаются в целом, «постметафизическим» моделям. (Не путать с прикладной этикой). Статья Александра Морозова прекрасно ложится в эту почтенную традицию, пытающуюся выработать эффективные и действенные этические критерии для легитимизации политических практик. Начало этим дискуссиям было положено серией работ Ролза, начиная со статьи «Справедливость как честность», но прежде всего, конечно, «Теорией справедливости». (Мы оставляем в стороне несколько маргинальные попытки таких заслуженных философских традиций как утилитаризм и марксизм подключиться к этой дискуссии).
Понятие автономии оказывается ключевым и для современных версий либеральной этики. Конечно, оно в значительной мере переосмысливается, но достаточно ли ресурсов этого смыслового приращения, чтобы решить те принципиальные проблемы, которые возникали при архетипизации атомизированного индивида? Обоснование концепции справедливости состоит в автономии, «не в её истинности в соответствии с порядком, предшествующим нам и независимым от нас, а в её адекватности нашему глубокому самопониманию и пониманию наших устремлений». Далее следуют многословные уточнения, что это собственно за «мы», как можно определить «общественность» и, в конечном счете, различить автономию и гетерономию, а также определение процедур такого «самопонимания».
В результате мы имеем дело со своеобразной диалектикой автономии и гетерономии, подробности которой здесь, видимо, нет смысла описывать. Однако есть вещь, которая принципиально оказывается за рамками рассмотрения, она оказывается априорно заданной, а именно, это фоновые представления о человеческой природе. Эти современные версии теории общественного договора, заявляющие себя как «процедурные», «постметафизические» оказываются метафизическими в самом откровенном, банальном смысле, поскольку основываются на конкретных и спорных представлениях о человеческой природе как эгоистичной и преследующей только собственные интересы. Необходимо признать, что мы имеем дело здесь с тем же самым «эмотивизмом» и интуитивизмом, что и у Канта, где понятие доброй воли опосредуется положением о моральном чувстве, об уважении к человеческому достоинству.
Именно поэтому тот взгляд на мир, который обычно называют коммунитаристским, который, грубо говоря, выражается в первенстве обязанностей над правами, гетерономии над автономией, на первый взгляд, кажется таким жестко альтернативным. Однако, хотя коммунитаристы пытаются дистанцироваться от традиционных либеральных представлений тем, что, во-первых, рассматривают благо как коллективно данное, встроенное в практики и традиции сообществ, во-вторых, подчеркивают психологическую, а может даже эмоциональную сторону приверженности и идентификации, они также оказываются капитально погружены в традиции либеральной этики: здесь можно отыскать и интуитивные статичные базовые представления о природе человека, на этот раз скорее альтруистические, и негативное понимание самоопределения, пусть на этот раз оно следует вторым шагом.
Итак, остановимся на двух существенных моментах либеральной этики, значимых как для классической кантианской версии, так и для актуальных дискуссий по поводу «общественной морали» между последователями Ролза и коммунитаристами: это понятие автономии, негативно определенной свободы и фоновое статичное, «интуитивное», однозначное представление о природе человека и человеческой психологии. Необходимо подчеркнуть, что современные варианты несмотря на заявленную «процедурность» и «ситуативность» оказываются «универсалистскими», метафизическими, то есть опирающимися на определение «сущности» человека.
(Здесь, безусловно, напрашивается неожиданная, но оправданная параллель между самозаконным автономным субъектом и сувереном Шмитта, не оказываются ли эти философские персонажи слишком похожи из-за гипостазирования пустой и абсолютной свободной воли? Вдруг они близнецы-братья, вышедшие из утробы европейского Просвещения, отождествившего разум и следование собственным интересам? Это очень важный вопрос, от которого очень непросто легко отмахнуться.)
3.
Существует еще один комплекс вопросов, которые очень сложны, но мы не можем оставить их за рамками этой заметки. Почему все-таки русский Кант – не французский Достоевский и не американский Бахтин? Он даже не русский Гегель и не русский Ницше. Почему здесь была форменная идеосинкразия по-поводу Канта, почему Кант — это любимое блюдо русской философской традиции, ну и пусть, что каша из топора? Юркевич и Соловьев, Федоров и Лопатин, Лосский и Флоренский, Шестов и Эрн — каждый почитал необходимым отнестись к богатому наследству критически, как выразился когда-то по этому поводу Ахутин - «София и черт». Каким образом эти «карлики» задолго до дискуссий Хайдеггера и Кассирера, до опасений Арендт и Мерло-Понти, до смелых параллелей Жижека между Кантом и де Садом заметили странный крен формальной этики Канта? Вот в чем настоящий скандал.
Не претендуя на полноту, для которой необходимо, видимо, также и серьезное богословское обеспечение, попытаемся перевести суть их претензий к Канту на язык современной философии, позаимствовав пару концептов у Эммануэля Левинаса.
Мы исходим из того, что в христианских конфессиях совершенно разные социальные онтологии и этические стратегии. Этика Канта передает именно протестантский, героический и трагический, недоверчивый и надломленный взгляд на мир.
Во-первых, автономия как самоустановление, самоутверждение я исключает работу самоотказа в любви, кенозиса и самоумаления, или смирения, то, что составляет центральное звено евангельской проповеди. Совесть как совещательное понятие, в отличие от «доброй воли» или долга — это свобода, прежде всего,от себя, от скучного и утомительного рефлексивного круга, «вечного возвращения» эго. Здесь отрывается другая, головокружительная свобода, отличная от негативной свободы протеста, которую так точно сформулировал Августин в словах: «Люби Бога — и делай что хочешь». Возлюби — это не императив, а просьба, а, возможно, мольба. Вряд ли здесь годится даже и понятие ответственности перед другим, ведь дело не в простом ответе и отклике, а непременно в отклике с тратой и потерей.
Во-вторых, здесь мы имеем дело с подлинно динамическим представлением о природе человека, не эгоистичной или доброй, а преображающейся. Возможно, поэтому здесь была невозможна проблема двойной истины: «истины разума и истины веры», и вытекающая из нее доктрина расщепленного разума, выраженная в разрыве между миром сущего и должного, природы и свободы.
Отсюда, из этой просьбы кеносиса, самоумаления, из образа Христа, умывающего грязные ноги бестолковых рыбаков, следует совершенно немыслимое для современного политического дискурса понятие «служения», не упрямого следования долгу, исполнения обязанностей, а внимательного всматривания «кто мой ближний?», которое обеспечивает вожделенную связь между универсальным и единичным, общим и частным, по которой так тоскует современная философия.
Увы, в Евангелии нет ни слова о «христианской империи», об «универсальных христианских ценностях», о борьбе за них, а наоборот, есть только слова «Возлюби» и «Царство Мое — не от мира сего».