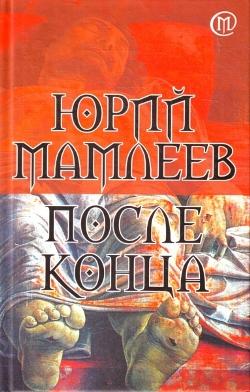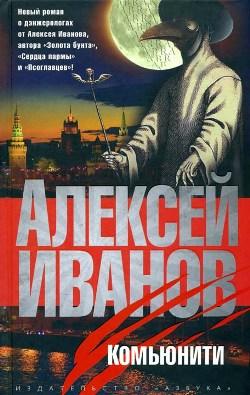Три книги от Ли Сина
Юрий Мамлеев, Алексей Иванов, Сергей Жадан
Что такое метафизический реализм? Известно, к примеру, что «Рипол-классик» издает серию «Библиотека Клуба метафизических реалистов», в которой вышли книги Мамлеева, Сибирцева и Славниковой. Известно, что сам Клуб метафизических реалистов находится в ЦДЛ, там можно (виртуально, в основном) встретить таких писателей, как Лев Аннинский, Игорь Волгин, Сергей Есин, Юрий Козлов, Владимир Маканин, Владимир Орлов, Евгений Рейн, Ольга Славникова и таких, как Сергей Шаргунов, Василина Орлова, Роман Сенчин, Катерина Кюне. А источник всего этого богатства – двухэтажный деревянный барак в Южинском переулке, в 1960-х годах, где в двух смежных комнатах коммуналки молодые друзья выпускника Лесотехнического института Юрия Мамлеева проводили свои подпольные метафизические сессии. Приходил Валентин Провоторов, провидец, из внутреннего круга южинцев. Там бывали друзья, ставшие ныне широко известными «столпами» отечественного философского, так сказать, искусства - художники Анатолий Зверев и Владимир Пятницкий, поэты Генрих Сапгир, Юрий Кублановский и Леонид Губанов, писатель Венедикт Ерофеев, поэт и философ Евгений Головин, мета-евразиец Александр Дугин, суфий Гейдар Джемаль.
Думается, и Пелевин вышел из шинели мамлеевских рассказов. То, что мы здесь скромно добавляем в славную когорту метафизических реалистов ещё двух прекрасных авторов, Иванова и Жадана, только намекает на главную отечественную литературную традицию – исследовать мир человека и человека мира универсальным способом. Универсальность – синтез несочетаемого, прямо исходящий из штудий Аристотеля, как ни странно. Так что же, метафизика и реализм - одно и то же? Да, это тожество, иначе эти два слова нельзя было бы свести в одно понятие. Причина необходимости метафизики элементарна. Нам удается уловить лишь отдельные стороны, черты бытия, но и этого достаточно, чтобы понять: каждая вещь - нечто большее, чем мы знаем о ней, и нечто иное, чем мы представляем, и в этой своей бесконечной полноте вещь остается для нас непостижимой, таинственной. Нет тайны – нет причин для творчества. Здесь нет места для подробностей, но одно можно сказать: бытовое понимание метафизики -вполне Аристотелева заслуга. То есть связь невидимого, неосознаваемого с воспринятым и реальным даже математики признают. Смотрите теорему Курта Гёделя о неполноте, например.
Юрий Мамлеев «После конца»
М.:Эксмо, 2011, 317с., 3000 эк.
Этот роман предельно и мрачно эсхатологичен. Это сказка о бездонности падения в тридевятый ад. Нет конца истории, пределов падения дома Ашеров – вот развитие Юрием Мамлеевым темы Эдгара По. Конец света, искупление и загробная жизнь это, конечно, настолько далеко от По, насколько это кажется. Но кажимость не есть критерий. Критерий – реальность синтеза противоположности временного и безвременного, сиюминутного и вечного. Русский человек никаким временем не ограничен, русскому вневременному человеку органично пребывать в вечном недоумении, что важнее – быть человеком или быть русским. В своих мыслях Мамлеев зашёл куда как дальше Бердяева, у него русское вовсе не есть уточнение человеческого, у него причастие к русскому – условие и причина выхода человеческого из тисков времени к границе вечности, к границе раздела света и непознаваемой бездны. Антропология Мамлеева это манихейство, это равенство тьмы и света перед Лицом непознаваемого, философия светотени. «Вне протяжения жило Лицо».
Несмотря на почти обериутскую, абсурдистскую иронию к малым сим, в любом тексте Мамлеева есть приметы большого мистического, так сказать, стиля. Его шатуны всегда бредут к свету вечной жизни, даже если прочно и непоправимо мертвы. Это насквозь гностично именно в смысле раннехристианских гностиков. Всегдашнее отделение писателем «русского» от «человеческого» выглядит иррационально, но объяснимо. Можно сказать, происходит переплавка в литературные сюжеты и типы героев некоторых идей Даниила Андреева и Рудольфа Штейнера об особенной, уникальной роли русского народа на пути, в странствии к необходимой мировой катастрофе, которая есть мутация, превращение в новую расу. А можно сказать, что идеи эти носятся в воздухе тысячу лет, любой желающий их воспримет. Здесь, в контексте метафизической реальности, идея причинна по отношению к любой реальности, а значит – метафизична в смысле второго Аристотелева двигателя.
Древняя идея о непрерывной мутации человека, без разницы – русского или индейского, немецкого или еврейского - конгениальна, конечно, шестидесятническим романам Кастанеды, семидесятническим романам Стругацких и, как водится, ехидным романам Пелевина. А кто не превратится хотя бы в сталкера и сновидящего, не изменится, тот будет отброшен во тьму внешнюю из сияющего мира Полдня-22, отойдёт в скрежет зубовный, в град обречённый. Финальная, требующая миллионных гекатомб борьба народов за выход к границе «лабиринта светотени» уже началась в 20-м веке, если кто не заметил. Но Мамлеев не о закланиях жертв, он о мире после всех возможных человеческих битв, о мире уже нечеловеческом.
«Валентин Уваров почувствовал, что сошёл с ума. Удар в сознание, а дальше – непонятно…». Сместил точку сборки и оказался в глубочайшем будущем. А дальше – тщательно, ощущательно выписанный Мамлеевым мир после всех катастроф, такой мир, в котором творится страшное, нечеловеческое. Однако Уваров и в этом аду находит хутор, где живу потомки православных. В этом покинутом человечеством мёртвом, но предельно хищном мире правят коварство, безумие и нечто, что за неимением слов автор называет нечеловеческим. Планет на небе давно нет, зеркала запрещены, зато есть нация «деловых мертвецов», наследников англоманского практицизма и консьюмеризма. Есть «несуществующие», куда-то бредущие, уничтожающие всё живое. Демоны ещё не пришли навсегда, но уже иногда выходят к постчеловекам. Терран, правитель последней постчеловеческой страны Аусфири, больше всего любит сидеть с жабами в террариуме и мечтать о тайнах демонической магии. Русские в таком антураже – чистые ангелы и последняя надежда отпавшего, демонизированного мира на спасение.
Юрий Мамлеев однажды сказал, что американцы тратят огромные миллиарды долларов на проникновение в иные миры, но «параллельные» жители всегда сопротивляются этому проникновению. Что уж говорить о сверхчужом мире чёрной дыры, куда даже автор Апокалипсиса не заглядывал. Туда токмо русскому есть ход. С одной стороны, это проверка читателя на «метафизичность». Если какое-то странное сообщение не вызывает в вас ужасного трепета подспудного узнавания уже виденного, но неосознанного, то вы просто не готовы. А если готовы, смело читайте триллер «После конца» - там не чужой мир, там наше всё, в финальной стадии обезбоженности. И некому спасать полудемонов, кроме как русскому человеку, ценою полного отказа от дальнейшего пути. Герой-то вернулся обратно в Москву после совершенно бесплатного проникновения в запредельный мир - а те, финальные потомки, они остались ждать мессию, пришедшего в ад. Мессия в ад приходит через русского, потому что есть люди, а есть русские.
Алексей Иванов «Комьюнити»
СПб.:Азбука-Аттикус, 2012, 317 с., 12000 эк.
Алексей Иванов и сам знатный дэнжеролог, и написал два последних романа о дэнжерологах. Роман «Псоглавцы» был о жуткой иконе, а «Комьюнити» о самой важной в нашей жизни вещи, о социальных сетях, о феномене телекоммуникации, если шире сказать. Традиционно считается, что дэнжерология как система воззрений и практических навыков зародилась в недрах католической церкви для установления чудотворности икон, а ныне обитает в виде Малого дикастерия Святого Престола при Ватиканской Пинакотеке. Базовым основанием чудотворности церковь считает Божью благодать. Эта идея впервые была сформулирована блаженным Августином, возводившим культ чудотворных икон к теургическим практикам неоплатоников. У нас основателем-дэнжерологом можно назвать Игоря Грабаря. Кроме древней службы дэнжерологов Ватикана и Реставрационной мастерской Грабаря, были и есть дэнжерологи, получающие зарплату в секретных учреждениях. В эсэсовском рейхе поисками артефактов, сабджектов занималось Аневербе, где наука синтезировалась с магией. В НКВД был Комитет культурных влияний, возвративший прах Тамерлана, типичный сабджект, обратно в мавзолей, вскрытый 22 июня 1941 года. Получается, что когда «сабджект» переносится в иную среду, он может становиться опасным, т.к. стратегия поведения, которую он продуцирует, в новой среде может нести угрозу для человека. Устранение этой угрозы и есть поле деятельности дэнжерологов-практиков.
В «Комьюнити» сабджектом стала чума, чёрная смерть. Если вы чего-нибудь не знаете о чуме, читайте этот роман. Глеб приехал покорять Москву и стал топ-менеджером компании «Дикси», рвущейся осваивать госбюджет, выделенный на цифровое телевидение. Глеб придумывает темы для платного комьюнити «Дикси», эту работу ценят не только подписчики «Афиши». Сюжет завязывается на Калинниковском кладбище, на похоронах Гурвича, гениального программиста, придумавшего «телеком третьей генерации». Мы уже живём в этом телекоме, все новости в фейсбуках подвязаны под наши предпочтения. Парадокс - при связанности всех со всеми посредством телекома одиночество углубляется экспоненциально, это гигантский процесс атомизации социального человека.
Нет совместных действий, общезначимой информации и общепринятых правил, зато есть свобода получать только и исключительно желаемую информацию, и это бешеное счастье потребления. Третий телеком отменил не только подневольного социальным установкам человека, он отменил саму метафизику реальности. Какая вам Божья благодать, существуют лишь разнообразные концепты благодати, божьей, научной, демонической, потребительской, манагерской, какой угодно. Всё ведь наглядно, невидимым причинам нет места в серверах, вот он перед глазами – экран пиксельного сознания со значками соцсетей. И здесь на сцену выходит она, госпожа чума.
Иванов всегда остранённо разглядывает человека. На этот раз он впервые разглядел Москву и её население – манагерство. Это манагерство разнополо, разноумно, разносворо. Но внутренне все пользователи сетевых комьюнити одинаковы, им всем присущи «чудовищные завалы разбитых надежд, неоправданных амбиций и бессистемных убеждений». Как сказал однажды Виктор Топоров, все сайты-СМИ это эпицентры местных карго-культов. У чумы тоже свой устойчивый культ, подзабытый с момента основания в 1771 году чумного Калитниковского, Ваганьковского и прочих кладбищ. Но со всеобщей вакцинацией появилась небывалая возможность для чумы – дождаться третьего телекома и уйти в информационную матрицу человечества. Она и уходит, доводя до полного сумасшествия и гибели всех участников «чумного» комьюнити. Директор «Дикси» с говорящей фамилией Гермес становится чумным королём с помощью обряда раскрытия имени чумы – Абракадабры. Но сам Гермес попадает в чудовищные лапы новейшего рабочего класса, программиста Борьки, научившегося управлять демоном чумы с сервера фирмы. Для управления демоном надо иметь доступ к аккаунтам пользователей, демон ведь один из них, всего-то забот. Ну и конечно, надо сильно, по-манагерски, пожелать Орли, коварную дочку Гуревича, молодую евреечку, с чёрно-красными губами и сосками, ставшую следующей королевой чумы.
Глеба, героя романа, имеющего всё ж таки в себе крохи совести, принесли в жертву. Для этого был использован программистский талант Борьки Крохина, Крохобора в комьюнити. Этот Борька думал, что слово крохобор это крохотный борец - вот так переводят себе все слова мира программисты. На Лихоборке пластилиновый двойник Глеба, откуда-то из сериала «За гранью», выкинул из окна директора Гермеса по велению простой рабочей программистской руки. Для меня это место было детским и плавательным – окрестности речки Лихоборки. А теперь приходится верить дэнжерологу Иванову о бывшем секретном биологическом институте КГБ на Лихоборке. Собственно, этот научный «ящик» и выступил в романе взломанным ящиком Пандоры, откуда произошло зачумление нашего манагерского сословия телекомом третьей генерации.
Взломали этот жуткий ящик, судя по роману, не хищное племя Гермесов и их программистов, но ИД «Афиша» совместно с айфоном. «Афиша» делает западный образец потребления удобоваримым и желанным, а айфон помянут на каждой странице. Припев романа – человек есть его айфон.
Сергей Жадан «Ворошиловград»
М.:Астрель, 2012, 445 с., 3000 эк.
Сергей Жадан завершает свой роман абзацем, где разъясняет нам тайну выживания пророка Даниила в клетке со львами. Его сектантский пресвитер, пастор богом забытых штундов говорит забитым, забытым фермерам ворошиловградской степи: главное - не нужно бояться. Вас учат бояться и воевать друг с другом, но когда вы вместе, вы непобедимы. А если молитесь, если вместе с Богом, то совсем неуязвимы вы. Вот даже львы боятся, поэтому преисполнены ярости. А Даниил помолился за них, они его и не тронули, потому что он дышал огнём. «Как это? – спросили фермеры. – А вот так, - охотно ответил пресвитер, наклонился, чтобы поправить шнурок, распрямился, возвёл ладони для молитвы и вдруг выдохнул из своей глотки сине-розовый язык пламени, обдав всех жарким огнём и сладкой, невыразимо щемящей радостью».
У Сергея Жадана тонкое чувство ритма, слова, цвета, запаха, звука – но главное в его прозе то, что он самое сладкое держит под спудом медленного, увесистого развития сюжета. Вышестоящая цитата это редчайшее вкрапление метафизической, так сказать, темы. Всего таких «наездов» на читателя три-четыре, но они расположены точно, неотменимо, в узловых точках бифуркации, разветвления сюжета. Нет, правильнее сказать – в точках возникновения нового смысла. После пассажа о сине-розовом огне дыхания не токмо огненные языки пятидесятнического всепонимания вспоминаются, но весь только что прочитанный роман видится иным, нежели до этой фразы. А что, если жизне-причинный, привычнейший, незамечаемый никем воз-дух имеет прямое отношение к изгнанному из всех научных штудий понятию «дух»? А что, если дух это вовсе не понятие, а, страшно вымолвить, реальность?
Поэтому, глядя на эти редкие в романе «Ворошиловград», но точнейшие попадания в метафизику, можно отнести Жадана к метафизическим реалистам в литературе. Но, если ещё подумать, вообще нет хороших текстов, не являющихся реалистичными и метафизичными в одной обложке, так сказать. Роман Жадана переполнен наглядностью вымороченного постсоветского быта, рападающегося на атомы общественных, экономических, бандитских и прочих отношений. Наполнен роман матершиной, скаберзными отношениями со страстными безудержными женщинами востока, но главное в нём – поэзия.
Итак, Герман, харьковчанин, успешный манагер 2000-х, научившийся непрерывно обналичивать бабло, имеющий в кармане визитную карточку «независимый эксперт», вдруг выясняет про себя главное – он никто, нигде, ни с кем, и жить ещё не начинал. Его брат бежал в Голландию, записав на него свой бизнес, автозаправку на бесконечной трассе великой степи. И эта бесконечная равнина перепахала Германа, втянула его обратно в детство, в свои метафизические просторы. Он ведь пытался бежать из советского мира в постсоветское время самостийной Украины, в большой город, заняться бизнесом, «как люди», он пытался забыть себя и детских друзей, с которыми играл в футбол.
Не получился побег. Сначала, по приезде на автозаправку, наевшись подозрительных сиреневых таблеток смотрителя Кочи, он видит наяву, как мимо проходят странные, соткавшиеся из тумана, вневременные люди. Они на повозках и пешком, с женщинами в браслетах на ногах, в цветастых сари и дикими детьми на загривках, в татуировках и древних украшениях, с барабанами и биноклями, в офицерских френчах и шкурах, в белых одеждах, забрызганной куриной кровью, с иконками и пентаграммами. Сзади шли люди с рогами, в шерсти и даже сросшиеся двухголовые уроды. За процессией брели коровы с боронами, заметали следы, а на боронах лежали змеи и мёртвые бойцовые псы.
Ну куда уже тут убежишь? То ли безвременное племя, то ли беженцы Пакистана и всяческого Курдистана. То ли образы из трактатов Тойнби и Гумилёва, то ли наркотический трип. На самом деле беженцы, конечно. Но этот образ вечно подвижного пранарода степи, эти корни свехличных стихий прорастают в героя, он вдруг начинает делать вещи, которых от него никто не ожидал. Конечно, без женщины, красавицы-бухгалтера не обошлось. Да и второй, кроме престарелого пятидесятилетка Кочи, работник заправки Травмированный как-то странно повлиял. Вроде друг детства, ставший известным футболистом, а потом съехавший в бездонный дауншифтинг из-за травмы, но на самом деле – неведомый Герману человек степи.
Травмированный на футбольном поле, а потом убитый бандитами кукурузных полей, он опять выводит Германа на поле войны, на футбол, они играют в загробную эту игру. Я сам, житель окраинно-московского района Химки-Ховрино, помню эти советский футбол «двор на двор, завод на депо», кончающийся зверским мордобоем или братским распитием ящика пива. Странно у них там всё, в Украине великой. Полное ощущение недвижимости громады советских привычек бытования. Но есть привычки иные, загробные. После игры со степными «газовиками» Герман бредёт по кладбищу и понимает, что вся его команда детства, с которой он только что бегал с кожаным мячом по степи, лежит под крестами и камнями кладбища. Да и Травмированный, последний осколок землячества, погибает, жертвует собой ради выживания фермеров, независимых от кукурузной постсоветской мафии. Поэтому Герман и остался жить в степи, работать в промасленном, мазутном «офисе» ворошиловградской заправки, что никуда оно не делось – ни советское, ни племенное, ни братское, ни огненно-воздушное.