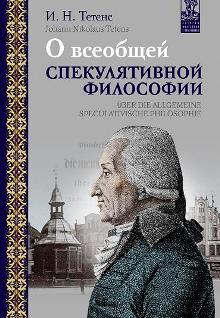Пять новых книг: отчет за первый квартал

Многолюдье Венецианской республики всегда было расчерчено силовыми линиями готовых топосов, общих мест. Панегиристы восхваляли Венецию за миролюбие и начальную деловитость: если другие города основывали свирепые воины, и Ромул не смог удержать руку от убийства Рема, а сиротам Рема пришлось основывать Сиену, то Венецию выстроило согласие граждан. Изначально жители Венето были торговцами, ищущими подлинного согласия интересов и истинной коммерции – то есть, свободного оборота идей, мыслей, речей и финансовых активов. Можно видеть, как в риторике венецианского нерушимого согласия, особой прозрачности замыслов, в которой видна вся глубь веков, рождался особый юный дух предприимчивости. Эта предприимчивость состоит не просто в том, чтобы обеспечить цех работой, а себя – очередными материальными сокровищами, но в том, чтобы создать единый форум, на котором заработанное может сразу стать инвестицией. Венеция соединила старые представления о банковском капитале как о ростовщичестве с новыми представлениями об обороте капитала как об экономической стратегической игре, и тем самым освободила ранний капитализм от былой рутины выкачивания прибыли, от рабства у тактики, открыв стратегические горизонты.
Трактат Контарини, современника Лоренцо Лотто, кардинала-обновленца и блестящего стилиста – одновременно апология торгового государства и созидание его места в истории. Контарини соглашается и с мнениями соотечественников, и с мнениями чужеземцев: да, Венеция удобно расположена, да, она всемирный рынок товаров и услуг, да, ей благоволят все рациональные и иррациональные силы. Но при этом он находит и новые слова для привычных институтов: например, совет десяти (едва ли не первый пример европейских спецслужб) оказывается тираноборческим органом, способным нейтрализовать новых Катилин, а дож выглядит прирожденным полководцем, который всегда защищал городские запасы от пиратов. Сначала читать такие описания политической реальности неприятно – неприглядные дела оказываются наспех прикрыты примерами римской доблести. Но после становится видно, что для Контарини администратор в Венеции – это тот, кто умеет защищать не только родные стены и родной очаг, но и благополучие людей, простые человеческие радости, может защищать сказку жизни, которая немыслима без уюта. «Сенат обратил свои помыслы», – это уже не поспешное принятие решений политическим классом, а умение создавать правила игры, которые выглядят как разумные, и потому в текущей политике становятся более чем уместными. Язык, предназначенный для описания тактики, описывает стратегию – это венецианскому своеобразному предшественнику Ришельё было трудно сделать в оригинале, еще труднее передать в переводе, но вдумчивый переводчик с этим справился.
Контарини, Гаспаро. О магистратах и устройстве Венецианской республики / пер. с лат., вст. ст., комм. М.А. Юсима; ред. М.М. Крома и О.В. Хархордина. – СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2013. – 222 с. – 500 экз. – (Серия: Res Publica, вып. 7).
В России никогда не везло Канту, но еще больше не везло его современникам. Если где и можно было их встретить, то под тяжелыми переплетами переводных или оригинальных компендиумов по философии, затерянных среди вороха цитат. Тем более важно, что мы сейчас можем читать билингву основного трактата одного из важнейших современников и во многом соратников Канта. Тетенс был универсальным умом, подобным Лейбницу – из-под его пера выходили и труды по зоологии, и доказательства математических теорем, и психологические наблюдения, и инструкции по проведению денежной реформы – он был директором Датского королевского банка. Он был готов вмешиваться в решение административных вопросов, спорить и убеждать, не уступая никому выкованных им понятий, но переходя во фронтальную атаку на поле тогдашней науки.
Трактат Тетенса посвящен созданию критической онтологии, двигался он в том же направлении, что и Кант. Но чтение его труда показывает, что понятия Тетенса – не условные знаки, не символы тех или иных уровней реальности, но скорее чехлы, упаковки или коробки для онтологических коллекций. Например, абстрактное понятие, по Тетенсу, содержит одновременно всеобщее и реальное, чувственное и нематериальное, но именно поэтому необходимо разложение понятий на части и изобретение новых понятий. Точно так же нам может казаться, что насекомые отличаются друг от друга только внешним видом, но пытливый зоолог укажет, что только механизмы их строения позволяют построить правильную таксономию. С точки зрения Тетенса, люди слишком склонны фантазировать, и фантазия – это не столько дополнительное представление, сколько поспешное обобщение. Люди торопливы, и нужно хотя бы иногда заставлять их производить ревизию собственной терминологической коллекции. Тетенс один из первых понял, что философия не может достичь полной ясности и прозрачности понятий, сама «психологическая» работа нашего мышления этому препятствует. Но она может достичь истинности, когда созидает реальные знания: когда крылья насекомых подсказывают возможность полета, а сходство насекомых – закономерность наших открытий. Тетенс учил совершать открытия каждый день, а не считать одно-единственное открытие венцом всей жизни.
Тетенс, И.Н. О всеобщей спекулятивной философии / вступ. ст., пер. с нем., прим. А.Н. Круглова; введение Н. Хинске. – М.: Канон+; РООИ «Реабилитация, 2013. – 336 с. – 800 экз – (ИФ РАН, Серия: История философии в памятниках).
Казалось бы, с этой темой всё просто: брюки для женщин – одновременно бунт, заявка на власть и перемена гендерной роли. Где брюки, там «жоржзандки» и суффражистки, там женщины идут на войну, там женщины побеждают в боях. Но эта картинка из учебника не столь проста: ведь если женщина должна доказывать мужчине право на власть и право на победу, то ее положение остается униженным. Мужчина пользуется привилегиями, которые дает ему прошлое, а женщина, затратив неимоверные усилия, удостоится разве что портрета в полный рост, памятника или изображения на обложке журнала. Но оказывается, что введению женской эмансипированной моды предшествовал целый ряд важных событий: прежде всего, попытки регулировать костюм во времена Французской революции и консульства Наполеона. Когда код одежды перестает быть достоянием сословий и знаком социальных функций, а превращается просто в объект наблюдения, то как раз женщине хочется быть одновременно наблюдаемой и вышедшей из привычных социальных рамок. Поэтому женская борьба за брюки – это одновременно борьба за то, чтобы быть всегда на виду, и расстояние, отделяющее амазонок наполеоновских военных кампаний от икон гламура ХХ века, вроде американской летчицы Амелии Эрхарт, не столь велико. Нельзя говорить о том, что в XIX в. была подлинная жизнь, а в ХХ веке возникли пустые гламурные оболочки: и то, и другое – один жест предельной видимости, которая заставляет по-новому взглянуть на социальную жизнь. Когда женщина надевает брюки, то социальная жизнь перестает быть только борьбой отдельных мужских групп за влияние, прекращается подковерная война бульдогов как норма социальности, и возникает новая дисциплина социальной жизни. Недостижимый идеал красавицы становится активным и боевым. Можно сказать, что женская эмансипация и создала знакомый нам идеал «эффективности»: важно не кичиться друг перед другом и не плести козни друг против друга, как это бывало в мужских компаниях, а подумать, что всех объединяет, какую норму диктует женщина, как сделать так, чтобы эта норма поскорее осуществилась. Чтобы мужчины перестали выглядеть просто борцами за внимание одной женщины, а стали бы борцами за собственное дело.
История моды ХХ века изображается в книге о политической истории брюк как культурная история страха и соблазна. Страх вызывали одновременно границы и нарушение границ, и отсюда такие странные зигзаги женской брючной моды – то в сторону униформы, то в сторону манерного изящества. Женские образы эпохи ар-деко, изломанные и одновременно прямые, как доска, когда флер превращался в сигаретный дым, или прагматические образы беби-бума, когда вдруг спортивная подтянутость начинала выглядеть как домашняя расслабленность – это не просто стремление женщин сочетать разные требования культуры и приспособиться к ним. В книге показано, что нельзя видеть в женщинах только тех, кто хочет приспосабливаться, мужской шовинизм здесь действительно неуместен. Напротив, и «вульгарность», и «изощренность» – это такое умение преодолевать границы страха, которым мужчины не владеют. Это умение не бояться себя, а не только обстоятельств. Умение быть решительной, делать ставку не на свою силу, как мужчины, но и на свой преодолеваемый страх, который и становится источником всякого подлинного творчества в мире моды. Широко открытые глаза и становятся лучшим медиумом, лучшим художественным видением, лучшим аппаратом, снимающим современность – и после прочтения книги хочется написать эссе о технических средствах визуального.
Бар, Кристин. Политическая история брюк / пер. с франц. С. Петрова. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 320 с.: ил. – 1500 экз. – (Серия: Библиотека журнала «Теория моды»)
Татьяна Дашкова спорит со структуралистским подходом к советской культуре, видя его недостаточность. Легко сказать, что тоталитарное сознание, например, видит все в черно-белом цвете, или абсолютизирует фигуру отца. Но гораздо труднее увидеть в советском каноне не реализацию готовой утопии, а напротив, ее нереализованность. Часто можно слышать, что утопии опасны тем, что их можно реализовать. Вероятно, в этом афоризме речь идет не об утопиях как таковых, а о некоторых инструментальных составляющих, вроде учета, контроля и тотальной мобилизации. Утопия сама по себе, вне тоталитарного инструментария – это освобожденный труд, это труд, переставший быть проклятьем. Но в советской культуре труд оставался проклятьем, несмотря на все его прославления: ярмарки труда, вроде ВДНХ или московского метро, только оттеняли грубую повседневность отдельных управленческих решений. Труд не был сублимирован, но был рутинизирован, превращен в гипноз привычных действий. И именно такой труд и оказывается содержанием того кинопраздника, которому посвящены работы Дашковой. Например, оказывается, что советский канон «прекрасной работницы», в журналах и в кинематографе, вовсе не является единым идеологически выдержанным произведением, но представляет собой механическое соединение двух канонов 20-х годов: репортажной фотографии о труде, низкокачественной, расплывчатой, в которой медиум и есть единственный мессидж, трудовой фотоаппарат фиксирует трудовую вахту – и упрощенного гламура модного журнала. Грубые черты крестьянки оказываются вставлены в рамку артистической игривости – вот и получается сталианс.
Важно здесь то, что, отрицая буржуазность как «эксплуатацию красоты», советский канон пытался создать красоту, которую невозможно эксплуатировать, женщину-трактор, женщину-станок. Женщина-депутатка и женщина-делегатка устроены как точно такие же андроиды, как такое же глумление над красотой. Но именно это глумление и приводит к тому, что канон начинает быстро распадаться: Дашкова убедительно показывает, что советское кино могло существовать до тех пор, пока существовал скрытый конфликт: предчувствие войны или эхо прошедшей войны. Без этого экранный конфликт был просто плоским и невыразительным (перипетии героев были не более интересны, чем перипетии производства), нужно было убедить зрителя, что этот экранный конфликт – декорация к более сильному переживанию. Попытки перенести большой внешнеполитический конфликт на экран приводили либо к тотальным неудачам («Русский сувенир» Г. Александрова), либо к разложению канона и к торжеству ностальгической бытовой трагикомедии в послесталинском кино. Ведь конфликт тем самым демеханизировался, становился видимым, по-настоящему задевал и ранил зрение. Эту рану мы и несем в себе до сих пор, в том числе, когда жалуемся на постсоветское «вырождение российского кинематографа».
Дашкова, Татьяна. Телесность — Идеология — Кинематограф: Визуальный канон и советская повседневность – М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 256 с., ил. – 1000 экз. – (Серия: Кинотексты)
Классическое пособие по истории дизайна издано изящной книгой, как букварь, но только не для изучения, а для перелистывания. Прежде всего, Суджич отходит от привычного понимания дизайна как реализации культурных стереотипов, как облагораживания готовых представлений об изящной форме или приятном сочетании цветов. Так можно было бы говорить о дизайне, если бы вся история искусства сводилась к творчеству старых мастеров: они, действительно, преподавали уроки благородства и в тонкости рисунка, и в том, сколь почтительно они обошлись с рисунком при доработке картины. Реализация и облагораживание – действительно, подходящие слова для старых мастеров, но они совсем не подходят к импрессионизму и постимпрессионизму, которые решительнее всего повлияли на становление дизайна. Суджич показывает, что дизайнеры не те, кто что-то делают с готовой формой, а те, кто могут впечатлиться готовой формой. И это не только формы, подсмотренные у природы – как раз органический дизайн ближе всего стоит к нормам старинной декоративной изобразительности. Важнее подсмотреть у техники, понять технические нормативы как дизайнерское вдохновение. Например, у первых «фордов» антропоморфный облик, фары-глаза, диктовался технической спецификой надежного крепления деталей, потом он был растиражирован в детских книгах, миллионах улыбающихся глазастых автомобильчиков, а потом стал вдохновлять производителей. Хочется превратить машину-каплю или машину-танк в машину-морду. Или пишмашинки оливетти своим дизайном гаджета, который ничему не помешает на столе, ничего не столкнет со стола, предвосхитили айпэды: здесь важно не изящество, а общая эргономичность. Дизайн и оказывается такой эргономикой во времени, эргономикой, которая не принимается как стандарт, а становится живой жизнью вещей.
Значительная часть книги посвящена не столько дизайну, сколько фетишам моды, гламура и демонстративного потребления. Для автора фетиши – это своего рода запинки в языке, когда невозможно о чем-то связно говорить, тогда и возникает необходимость в фетишах. Когда невозможно подробно объяснить свои социальные задачи, тогда так просто удариться в роскошь, или же, напротив, выдавать недорогие вещи за высший шик. Нельзя сводить это к игре социальных статусов или же к борьбе за чужое внимание – это, напротив, попытка разговаривать собственным телом так же, как импрессионисты говорили красками и линиями. Это не попытка доставить покой и комфорт себе, но стратегия, дающая комфорт другим. Все названные в книге парадоксы, вроде того, почему в автомобиле самое удобное кресло у водителя, а не у пассажира, говорят об этой сложной экстравертности дизайна: разработчику важно, чтобы было удобно именно тому, кто отвечает за механизм. Как раз потребитель дизайна обычно человек напуганный, даже травмированный сложностью мира; но те, кто оказываются зрителями дизайна, видят, что необычная чувственность современного мира, мира скоростей и фильмов-катастроф, только и может создать «обычный опыт». Человек в эпоху дизайна постоянно решает задачи, а не только присваивает себе готовые решения – и эти решения оказываются полезны для окружающих. Поэтому тему связи дизайна среды и милосердия не нужно ограничивать одной книгой, неплохо повторять об этом по многу раз.
Суджич, Деян. Язык вещей / пер. с англ. М. Коробочкина. – М.: Strelka Press, 2013. – 240 c., ил. – 3000 экз.