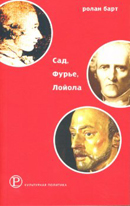Великие языкотворцы: модель для сборки

Ролан Барт. Сад, Фурье, Лойола. / Пер. с франц. Б.М. Скуратова. - М.: Праксис, 2007. - 256 с. - (Культурная политика).
"Сада, Фурье, Лойолу" - вышедших по-французски в самом начале 1970-х (1) - Ролан Барт писал на том, оказавшемся последним, этапе своей интеллектуальной эволюции, который принято именовать постструктуралистским.
"Проклятый писатель, великий утопист и святой иезуит" (2) при ближайшем рассмотрении оказываются у Барта не столь уж различны меж собой. Всех троих он выстраивает в одну, и довольно прямую, линию. Начинает он ее, однако же, не с Лойолы, жившего заметно ранее своих собратьев по анализу, но с фигуры наиболее, казалось бы, проблематичной: с де Сада. И, по всей вероятности, вряд ли это случайно.
Маркиз вообще был изрядно популярным предметом рефлексий у современников Барта, особенно у радикально мыслящих. Переоткрытие и переинтерпретация его творческого наследия вообще входили в качестве составной части в интеллектуальную программу тогдашней "оппозиционной социальной теории", прежде всего французской (3). Достаточно вспомнить, например, "Должны ли мы сжечь Сада?" Симоны де Бовуар (1962), "Канта с Садом" Жака Лакана (1971) и, наконец, Мишеля Фуко с его "Историей сексуальности" (1981). В этот ряд, в эту программу встраивается и работа Барта.
Внимание к Донасьену Альфонсу Франсуа де Саду (1740-1814) - одному из самых традиционно скандальных персонажей европейской интеллектуальной истории последних веков (может быть, и самому скандальному из них!) - оказалось одним из наиболее востребованных орудий - и своего рода катализатором - пересмотра смыслового наследия и культурных программ Нового времени - в каком-то смысле и европейской цивилизации в целом.
Назревшей потребностью в таком пересмотре продиктован интерес и к двум другим героям бартовской книги: Игнатию Лойоле (1491-1556) и Франсуа Мари Шарлю Фурье (1772-1837) - представителям двух других (наряду с моралью - с предписаниями и ограничениями которой столь творчески обращался божественный маркиз) тематических доминант европейской культуры: католицизму и социализму. Все они сводятся, если вдуматься, к другой ее доминанте - пожалуй, куда более глубокой: к пафосу систематизации, рационального и техничного упорядочивания мира.
Вот и у персонажей книги обнаруживается гораздо более общего, чем, пожалуй, могли бы ожидать они сами.
Лойола - создатель своего рода католической утопии: техник выделки "правильного", идеального католика. Сад - творец утопии сексуальной, столь же необходимо сопряженной с техниками: достижения идеального наслаждения. Фурье - конструктор социальной утопии и, с нею, техник формирования идеального гражданина. Все трое - утописты: изобретатели техник, практик и методик систематизации сырой, необработанной реальности с целью ее так или иначе понятого совершенствования, усиления, возведения в степень свойств, до обработки присущих ей лишь в зачатке.
Каждый сооружает своего рода механизм по планомерной переработке данного в должное. "Упражнения" Игнатия, по Барту, "слегка напоминают машину - в кибернетическом смысле термина" (4). Даже Сад - "самый разнузданный из писателей" - "желает Церемонии, Празднества, Обряда, Рассуждения" (5) ("порядок необходим для разврата"! (6)). О Фурье нечего и говорить: он, набрасывающийся, казалось бы, "на цивилизованную (репрессивную) "систему", требуя "тотальной свободы (свободы вкусов, страстей, маний, причуд)" - возводит взамен того "отчаянную систему, сама избыточность которой, фантастическое перенапряжение превосходит систему" (7). Свобода у него "никогда не бывает противоположностью порядка" (8).
Каждого из троих Барт не то чтобы извлекает из контекста (контекст как раз сохраняется), но бережно очищает от содержаний, с которыми тот работал, всякий раз выявляя структуру этой работы и ее результатов. Под весьма разными поверхностями обнаруживается " <...> одно и то же письмо: одно и то же классификационное сладострастие, одно и то же неудержимое стремление раскраивать (тело Христово, тело жертвы, человеческую душу), одна и та же одержимость числами (подсчитать грехи, пытки, страсти и даже ошибки в счете), одна и та же практика образа (практика подражания, картины, сеанса), одни и те же очертания системы - социальной, эротической, фантазматической" (9).
Тут еще очень важно то, что "ни один из этих трех авторов не дает читателю свободно вздохнуть" (10) - каждый ставит достижение предлагаемой цели - чем бы она ни была: наслаждением, справедливостью или спасением души - "в зависимость от некоего негибкого порядка или, ради еще большей агрессивности, от какой-то комбинаторики" (11). Каждый настаивает на том, что "для удовольствия, для счастья, для беседы с Богом" необходим некоторый "ритуал", "форма планирования" (12) человеческих действий.
В их объединении, настаивает Барт, "нет ни малейшей намеренной провокации" (13). Действительно - дело значительно глубже.
"Если бы, - поясняет он дальше, - провокация была, то она, скорее, состояла бы в том, чтобы описывать Сада, Фурье и Лойолу так, словно у них нет веры: в Бога, в Будущее, в Природу..." (14).
Безусловно, "классификационное сладострастие" каждого - и у Барта это очень хорошо видно - как раз прямое следствие его веры. Не будь ее, незачем было бы так упорствовать в систематизации естества и в необходимости его в конечном счете преобразования?
Однако провокация - несколько вопреки авторскому заявлению - здесь все-таки присутствует. Она всего лишь несколько сложнее устроена.
Интеллектуальное предприятие Барта - составная часть работы освобождения. Выхода европейского интеллектуала - а вслед за ним, в проекте, и европейского человека вообще (Барт и сам своего рода утопист, и не такой уж неявный) - насколько такое в принципе возможно - из-под власти европейской же традиции отношения к миру и к человеку: ее условностей, ценностей, доминант. В этих-то целях они и реконструируются, проясняются, истолковываются не как самоочевидные, естественные данности - а как языки. Барт изобличает (напрашивается именно это слово) своих героев как "логотетов" (15) - основателей языков описания мира. И более того: "в логотетической деятельности все три наших автора как будто бы прибегали к одним и тем же операциям" (16). Тоже, должно быть, неспроста: наверняка это вытекает из самой сути "логотетической" деятельности.
Первая (не главная ли?) из этих операций - "самоизоляция" (17). Не только потому, что каждый из великих языкотворцев требует так или иначе понятой изоляции от внешнего для полноценного осуществления своих практик - "Лойола требует уединения: никакого шума, необходим тусклый свет, необходимо одиночество; Сад запирает своих либертенов в неприступных местах (замок Силлинг, монастырь Сент-Мари-де-Буа)" (18), а Фурье проектирует изоляцию интеллектуальную, рекомендуя отправить "в музей бурлескной археологии", за полной ненадобностью, сотни тысяч томов "по философии, экономике, морали" (19). О "самоизоляции" здесь заходит речь и потому, что язык, созданный каждым из "логотетов", "очевидно <...> не язык коммуникации" (20). И в прямом смысле (это - языки не "лингвистические"), и в прозрачно-переносном: они - системы, замкнутые на себя. Самодостаточные. Мира вокруг них им как будто бы и не надо: точнее, надо, но исключительно в качестве материала, из которого системы смогут выстраивать самих себя. "Садовский экстаз, фурьеристское ликование, игнатианская индифферентность никогда не выходят за рамки образующего их языка" (21).
Следующий шаг - "артикуляция": расчленение живой и неподатливой реальности на "отчетливо выраженные знаки" (22). Так Фурье педантично "делит человека на 1620 фиксированных страстей", "Сад распределяет наслаждение подобно словам фразы (позы, фигуры, эпизоды, сеансы)", а "Лойола дробит тело (переживаемое последовательно каждым из пяти чувств) подобно тому, как он "кроит" повествование о Христе (разделенное на "мистерии" в театральном смысле слова)" (23). Далее в дело вступает комбинация выделенных элементов: "три наших автора подсчитывают, сочетают, непрестанно производят правила "сборки", составляют схемы взаимодействия этих правил; они заменяют творение синтаксисом, композицией <...>, все трое - фетишисты, привязанные к раздробленному телу, восстановление целостности может быть для них только суммированием умопостигаемых элементов". Для каждого из троих "нет ничего несказанного, нет нередуцируемых качеств наслаждения, счастья, коммуникации" (24): абсолютно все поддается и разложению на элементы, и полному проговариванию, и, разумеется, манипуляции.
Затем следует "упорядочение": предлагается "не только составлять схемы взаимодействия элементарных знаков, но" - именно этим путем - "и подчинять крупные эротические, эвдемонистические или мистические последовательности высшему порядку". Тут же является и Представитель высшего порядка: "кто-то <...> кто составляет программу, намечает перспективу (распорядитель и вычислитель)" (25) - такая фигура присутствует у каждого: "У Игнатия это настоятель монастыря, у Фурье - патрон или матрона, у Сада - какой-нибудь либертен, который <...> размещает позы по местам и руководит общим ходом эротической операции" (26).
Впрочем, такой руководитель всякий раз не более чем "постановщик эпизода" (27). Главная задача подчинения ритуалу ложится на самого исполнителя. Каждый из предлагаемых "логотетами" языков, обратим внимание, - это еще и некоторое "сделай сам", некоторое руководство. Сам доставь себе наслаждение, сам войди в подлинные, интенсивные отношения с Господом, сам освободись от нерациональной, вязкой, закрепощающей социальной реальности. Только делай, как сказано. Выполняй все точно по правилам.
Это тоже отличительная черта Нового времени: закрепощение человека руками самого человека, вследствие его собственного добровольного выбора - и именем свободы.
Предпринятая Бартом реконструкция некоторых символических языков Нового времени - каталогизация опыта этой эпохи, а тем самым и расчет с нею. Такой реконструкцией Барт полемизирует и с "затасканным мифом современности, согласно которому язык представляет собой всего лишь незначительный послушный инструмент для серьезных процессов, происходящих в духе, сердце или в душе" (28). В то время как современное Барту общество видит в языке (который, в свою очередь, отождествляется с языком словесным, "лингвистическим") всего лишь "декорацию или инструмент" (29), с которым человек может управляться по собственному разумению, "своего рода паразит человеческого субъекта, пользующегося им или облекающегося в него, дистанцируясь от него" (30), - Барт представляет язык - широко понятую систему символов - как властное средство формирования человека. Чтобы сформировать человека, надо (умеючи, конечно) выстроить для него язык. А уж тот доделает остальное. Руками самого человека, да - который примет его за свое естество, за природный порядок вещей.
Барт демонстрирует возможности освобождения другого типа, и это возвращает нас к разговору о провокации. Если нечто - язык, тогда есть хотя бы принципиальная возможность говорить - моделировать мир - и на других языках. Выстроенный таким образом ход мысли сам по себе провоцирует читателя - для того и выстроен - на то, чтобы взглянуть под тем же углом и на современные ему языки моделирования реальности.
Когда нечто описано как язык - система условных знаков, - открывается возможность выхода из-под власти этой системы. Хотя бы и ради того, чтобы немедленно, на том же шаге, вступить во власть другого языка. Но условность обоих будет прочувствована - и это именно то, что надо. После этого уже ни один язык не сможет по идее владеть тобой безусловно. В отношениях с идеологиями, с разного рода предписаниями, как "надо" жить, - очень полезно.
Отдельный вопрос - он действительно совсем отдельный, и за разрешением его надо бы обращаться уже не к Барту, а к другим источникам - состоит в том, что, видимо, человек иной раз испытывает серьезную потребность в том, чтобы что-то владело им безусловно и безраздельно. Чтобы некоторый язык давал ему исчерпывающее и единственное - предельно надежное - описание реальности. Работа освобождения, начатая на заре Нового времени и определившая, собственно, основные его черты, вызывает, в качестве реакции на себя, и как раз противоположную себе работу (на самом деле - свою неустранимую оборотную сторону): работу закрепощения. Она-то и породила в Новое время такое количество агрессивных идеологий, какое прежним временам и не снилось. Так вот: когда работа закрепощения по своему культурному объему начнет преобладать над работой освобождения, оставив эту последнюю лишь в качестве своей оборотной стороны, - тогда-то Новое время и кончится. И, кажется, это уже происходит.
Примечания:
1. Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. - Paris: Seuil, 1971.
3. Тернер Б. Современные направления развития теории тела // THESIS. - 1994. - Вып. 6.