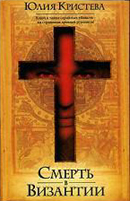Кристева и критика

Кристева Юлия. Смерть в Византии: роман /Пер. с фр. Т.В.Чугуновой. - М.: АСТ, 2007. - 348 с.
Игра лингвиста, знающего цену непривычному и странному слову, мозаика, складывающаяся вольно и даже чуть небрежно, как могли себе позволить разве что древние греки и самые утонченные из византийцев, - таким предстает детективный роман Юлии Кристевой. Выдающийся исследователь структуры речи предъявила в "Смерти в Византии" все свое мастерство, словно это отчет о проделанной работе, обернувшийся показательным выступлением. В ход пошли сериальные стереотипы и англо-американская ирония, динамичный ритм психоаналитических и гендерных разговоров и вездесущий дух репортажа. Герои детективного романа словно рапортуют о себе, о своих предпочтениях, пытаясь при этом говорить на чужом языке, на языке собеседников и слушателей. Такое приспособление к чужому языку делает роман не вполне французским. Мы почти не встретим в нем педантичного резонерства. Не встретим и вызовов, брошенных морали и общественным установкам. Ведь мораль не является горизонтом авторского видения, как бы далеко ни уходило повествование, она выступает разве что как чужое слово.
Кристева ведет рискованную игру национальными и гендерными стереотипами. Она создает детективный роман, при чтении которого порой хочется воскликнуть: "Как это правильно!" Здесь мы не найдем апологии преступления или разоблачения истеблишмента. "Правильно" ведет дело следственная команда, состоящая из людей мыслящих, а не корыстных исполнителей чужой воли; "правильно", "как надо" изображенным выглядит и преступник - закомплексованный и мстительный, а вовсе не трагическая жертва случая. И познание Византии главной героиней явно не случайное.
Произведение Кристевой возвращается к истокам европейского романа. Изначально роман от других жанров отличало бытование речевых формул и метафор, что мы встретим, скажем, у Апулея с его "метаморфозами" - реализованными метафорами духовного перерождения. Всякий роман, начиная с античности, был направлен на обретение счастья в здешней жизни. В романе Юлии Кристевой счастье может существовать только в одном виде - как угадывание того счастья, которое было в прошлом (здесь - краткого счастья молодости Анны Комнены, вся дальнейшая жизнь которой была окрашена скорбью). После этого счастья на многие века последовала скука будней, сплошные бытовые мифы.
Эти бытовые мифы Кристева препарирует будто мимоходом. Одним из таких мнимо счастливых мифов оказывается геополитический пасьянс. Скажем, Франция как новая Византия, испытывающая перед новыми крестоносцами, англо-американским миром, страх, соединенный с необъяснимой тягой к нему. Таких мифов много - но они только жалкое подобие настоящей любовной тяги, настоящих романных отношений. За зыбким маревом бытовой политической мифологии в детективе Кристевой стоит Византия влюбленной византийской принцессы Анны Комнены.
Код Анны Комнены, позволяющий разгадать преступление, - не код исторического несчастья, а код бытового счастья: тайный роман юной Комнены с норманнским предводителем. Только мысленно воскресив этот тайный роман, можно понять странности поведения Анны и прерывистость повествования о "варварах" в историческом труде отдалившейся от дел принцессы. Она пытается молчать о варварах, но не может сохранить своего молчания. А мифы, копившиеся веками, не только стали множиться в последние десятилетия, но и отражаться друг в друге, создавая реальные конфликты и столкновения в Европе: проблемы миграции, проблемы отношения православного мира и западной Европы и т.д.
В географическом пасьянсе Кристева переигрывает прежде всего саму себя, ту интеллектуальную традицию, которая, как еще недавно казалось, может объяснить все. Многие западные интеллектуалы поддержали операцию НАТО в Югославии. Было бы легко показать их неправоту, если бы те настаивали на "справедливости" войны. Но идеология справедливости тут была ни при чем. Война казалась европейцам оправданной потому, что она может быть в любой момент прекращена, стоит властям Югославии выполнить минимальные условия. Такая виртуальная, по сути, аргументация наконец опровергнута - причем не Кристевой-интеллектуалом, а Кристевой-писателем. Слово "война" опять напоминает о бедах, а не закрывает пустую хронику прошедших событий, отступающих перед политическими сценариями.
Читатель привык к играм автора детектива с собственным образом еще благодаря творчеству Умберто Эко; в романе Кристевой эта игра дается уже как само собой разумеющееся. В игру втягивается и изначальная религиозная идентичность автора - православие в южно-славянском изводе, - вдруг отражающаяся неясным отблеском в политическом будущем Европы.
Слабое и изнеженное, манящее резкостью своих образов, православие оказывается еще не пройденным опытом Европы. Религия смиренного общего служения, временами срывающегося в деспотию, не ведающая орденской дисциплины и чуждая сословной чести, а потому умеющая видеть зло в добре и добро во зле. В России, заметим, эти черты исторического православия (вовсе не доминирующие) болезненно переживались еще Достоевским. Иначе и быть не могло, когда усталость от поражений проступала сквозь непрекращающуюся общественную активность. Кристева говорит, скорее, о другом. В очередной раз переиграв психоаналитические и гендерные аксиомы, главный персонаж романа заявляет, что женственное начало - необходимая предпосылка героизма: " Вы не замечали, что мужчин - не женщин, - считающих, что любимы матерями, называют героями? Но вам неизвестно, что бывает с ними дальше: Персей отрубил голову ужасной Медузе, Орест убил Клитемнестру, Эдип переспал с матерью. Кто же они - герои или преступники?"
Кристева задает в своем детективе одну загадку: видело ли Византийское государство угрозу своему дальнейшему существованию, когда заигрывало с крестоносцами, или же не хотело ее видеть, давая себя соблазнить и растлить? Этот рискованный путь Византии по самому краю пропасти, когда соблазн вот-вот увлечет в гибельную стремнину, - главная тема детектива. Правда, в какой-то момент читатель, кажется, уже не в состоянии ставить какие-либо вопросы всерьез, он остается шокирован, как при внезапном столкновении, впечатлением от героев и их поступков.