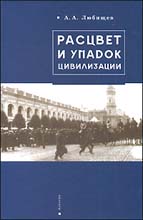Когда прошва дороже шубы

А.А.Любищев. Расцвет и упадок цивилизации. - СПб.: Алетейя, 2008. - 464 с. - (Серия "Мир культуры")
Мудрость должна быть весела, как сказано еще и в притчах Соломоновых. Александр Александрович Любищев, безусловно, был мудр и весел. Он философски признавался, совершенно в духе своего тезки Пятигорского: "Я люблю трепаться и валять дурака". Но за трепом не забывал родной биологии и других полезных наук. Он был прирожденный критик. И беспрестанно развивал свой критический дар и любил спорить. Смолоду после прочтения почти каждой работы он откликался на нее в своих дневниках. Достаточно сказать, что уже в начале двадцатых годов такие умы, как Л.С.Берг и Н.И.Вавилов, посылают ему на критический анализ свои сочинения.
Творческое наследие Любищева велико и разнообразно. Оно включает работы по теоретической биологии, собранные в посмертной книге "Проблема формы, эволюции и систематики живых организмов" (Л., 1982), статьи в области истории науки и культуры, выписки и комментарии к прочитанным статьям и книгам, колоссальную и интересную переписку с интересными людьми. В 2000 году в серии "Философы России XX века" издательство "Алетейя" выпустило два тома работ Любищева "Линии Демокрита и Платона в истории науки и культуры" и сборник "Наука и религия", куда вошли и многолетние эпистолярные диалоги с двумя его друзьями - биологами Б.Г.Кузиным и П.Г.Светловым.
Теперь дело дошло до "Расцвета и упадка цивилизаций" и неувядаемой любищевской публицистики. В книге три раздела. Первый - "Историческая публицистика", куда вошли тексты о Второй мировой войне ("Мысли о Нюрнбергском процессе"), о геноциде армянского народа ("О романе Франца Верфеля "Сорок дней Муса-Дага"), о Французской революции с ее массовым террором и проч. Главный текст здесь, конечно, трактат, давший название всей книге. Во второй раздел - "Идейное наследие русской литературы" - вошли статьи и эссе, посвященные беллетристике XIX-XX веков. Это самый слабый раздел. "Мертвые души" или "Портрет" - главное произведение Гоголя, кто гуманнее - Толстой или Достоевский, каковы пути истинной христианской веры Пастернака в "Докторе Живаго"? Вряд ли все эти вопросы можно обсуждать серьезно.
Последняя беспроигрышная часть книжки, для любителей разделов "смесь" и "разное", - письма и заметки разных лет. Книга добросовестно составлена и отредактирована М.Д.Голубовским и Н.А.Папчинской.
Иван Коневской. Стихотворения / Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания А.В.Лаврова. - СПб.; М.: Издательство ДНК, Прогресс-Плеяда, 2008. - 298 с.
Утонувший в 23 года в лифляндской реке Иван Коневской (псевдоним - от острова Коневец на Ладожском озере, настоящее имя - Иван Иванович Ореус) сыграл в русском символизме ту же роль, что Рембо в конце 1860-х годов во Франции. Кто знает - может, и больше... Он не был основателем новой школы, как Брюсов, или ниспровергателем, подобно Маяковскому, между тем его творчество стало связующим звеном между русской классикой XIX века (Баратынским, Кольцовым, Ал. Толстым) и новейшей поэзией. Трудно переоценить его влияние на Брюсова, Блока, Вяч. Иванова и на последующее постсимволистское поколение.
Издание, подготовленное Лавровым, как всегда, великолепно. И "вступиловкой", и комментарием - всем. Теперь любая работа о Коневском будет идти по лавровским путям. И все-таки трудно избежать пары замечаний. Можно понять, почему не изданы записные книжки и статьи Коневского: для "Библиотеки поэта" не формат, но почему руки не дошли до поэтических переводов, которым, как мы знаем, он придавал значение не меньшее, чем своим оригинальным стихам?
Коневского называют "поэтом мысли", и, наверное, справедливо, но все-таки насколько коряво и обидно понятие поэзии мысли, пусть и освященное именем классика! Как будто есть два сорта поэтов - умницы и остальная придурь. В то время как мысль - не тема, и не может быть поэзии про мысль, потому что поэзия сама синонимия мысли, и пальца между двумя этими вещами не просунешь. И не может быть никакого специального метафизического содержания, как это сгоряча может показаться литературоведу. Неудивительно, что в конце концов сверхосторожного и рассудительного Лаврова заносит так, что лирика Коневского объявляется метапоэзией (в новейшем вкусе! с внушительнейшей ссылкой на какую-то работу про деконструкцию!). Это, конечно, непростительная модернизация.
Лавров явно поспешил (пусть и вслед за многочисленными предшественниками) приписать Коневского к философии всеединства и платонизму соловьевского образца. Вообще, стройная историко-литературная картина плывет и коробится, коль скоро Лавров переходит к (тяжелым самим по себе и туманным) рассуждениям своего героя о Тютчеве, Кольцове или А.К.Толстом и попыткам их мировоззренческого и общефилософского толкования (бог его знает, где Коневской говорит о себе, где о поэтическом собрате; почему одно не стыкуется с другим или наоборот - все противоречия преспокойненько и непротиворечиво соединяются в один хоровод и т.д.). И тут строгий Лавров впадает в чистейший импрессионизм и субъективную приблизительность, которая, естественно, чтобы никто не усомнился в объективности, намертво прибивается огромными гвоздями гипернаучных выводов: "Баратынский чрезвычайно близок Коневскому в равной мере как содержанием и тональностью поэтических медитаций, так и самим творческим методом, в котором главенствующую роль играло рефлектирующее начало: "Все мысль да мысль! Художник бедный слова!"..." (с. 39-40). И так далее.
Но как бы то ни было... Отлично сделанная книжка. Отлично.
Марина Костюхина. Игрушка в детской литературе. - СПб.: Алетейя, 2007. - 208 с.; [48] с. ил.
Книжка г-жи Костюхиной - очаровательнейшая халтура. Прекрасно оформленная, иллюстрированная по интересу, она представляет собой очень странный текст непонятного жанра. Это точно не исторический очерк, хотя аннотация и уверят нас, что это "история игрушки в русской детской литературе на протяжении трех столетий". Журналистское и очень плоское повествование не знает никакой истории и никакого развития.
Броское название глав скрывает лишь зачатки каких-то щекотливых тем и построений, начинаемых невесть откуда и заводимых невесть куда: "Блеск и нищета фарфоровых красавиц", "Тайны кукольного домика", "От кареты до ракеты" и т.д. Никакой логики и завершенности внутри глав. Еще менее логичен переход от одной главы к другой.
Если это не (пусть и не строгий) исторический очерк, то, может быть, семиотика? Социология? Культурология игрушки? Феномен ее отражения и освоения в отечественной литературе? Ответим категорично: ни то, ни другое, ни третье. Читатель сломает голову, пытаясь понять, зачем вообще написана эта книга! Нащипав, наковыряв, надрав, как лыко, 140 книжек ("литература" в конце костюхинской книжки равно именно этому числу), она, не особенно озадачиваясь осмыслением и выстраиванием материала, рассовала все это по юрким главкам и заладила веселыми картинками. Концепция? Не тут-то было! Про методологию Костюхина и не слыхивала (бог с ней, методологией, но нет и необходимой полноты источников)! Ее метод можно назвать: "до чего руки дошли". Субъективизм, приблизительность, недальновидность. Тема настолько интересна сама по себе, что, казалось бы, заиграет даже при самом скудном орошении. Увы, у Костюхиной она не играет. Что такое игрушка? Как она связана с игрой? Что первично? Когда возникает современная игрушка? Чем одна культурная эпоха отличается от другой? И в каком смысле можно говорить о единстве феномена? Что дает литература в его сущностном раскрытии? Чем антропоморфная игрушка отличается от не антропоморфной? Почему игрушка рассматривается только в детской литературе, минуя взрослую? И т.д., и т.д. Ответов нет.
Blaise, dis, sommes nous bien loin de Montmartre?
Ю.М.Пирютко. Питерский лексикон. - СПб.: "Дмитрий Буланин", 2008. - 448 с.
Несмотря на давние разоблачения М.Золотоносова, этот опус Ю.Пирютко (как и прежние - "другие") продолжает оставаться увлекательным чтением: редкое сочетание лихости письма с высоким содержательным наполнением. Количество сведений на один квадратный дециметр зашкаливает энциклопедический стандарт, IQ автора явно превышает коэффициент Эйнштейна и Шерон Стоун (154 балла). Это компиляция без сносок? Конечно, но она уместна и обусловлена жанром. Залихватская развязность? Есть иногда и это, но автору удается балансировать на той мерцающей грани вкусовой эклектики, за которой зияет пропасть пошлости. Балансирует, но не впадает.
Этот путеводитель также отличается "пластичным синтаксисом и богатым интонационным диапазоном" (О.Кушлина), он построен как словарь, что и заявлено в названии: "Питерский лексикон". В перспективном порядке задействованы все буквы русского алфавита (кроме злополучной Щ). По фонтанным ступеням азбуки "годы, люди и народы убегают навсегда..." - а за ними дома и улицы, площади и скверы. Но и "Ангелы", "Академики", "Тайны", "Террористы" и "Эстеты"... Предусмотрительный автор, прежним рецензионным синклитом обвиненный в антисемитизме (сдается, напрасно), иронично и компетентно строит питерский интернационал по буквам и главам: "Британцы" и "Евреи", "Москвичи", "Немцы" и "Татары", "Украинцы", "Финны" и "Шведы". Что называется, товарищ прозрел, учел и исправился.
Излюбленная цитата из предыдущего пирюткинского градоведения: "Рассеяно во всем этом нечто - дамам, в особенности литературоведкам, недоступное". (Приведем все же беспристрастно данные политкорректной статистики: рецензируют путеводители Пирютко преимущественно похвально - дамы и... евреи.) Потому в новом лексиконе особенно умилительна предъявленная на товарищеский суд истории в меру провокативная главка "Женщины". Этот штрих немаловажен для структуры книги, а также для рынка, рекламы и шоу-раскрутки: Юрий Минаевич Пирютко наконец тишайше оповещает читателей, что он и есть Константин Константинович Ротиков, автор бестселлера "Другой Петербург", окрещенный поклонниками "крупнейшим петербургским гомоведом" (не путать с антропологами). По прошествии десяти лет вагиновский псевдоним давно стал секретом Полишинеля, но в новой книге специфические интересы автора, даже в главке "Бани", впрямую никак не афишируются.
Зато демонстрируется инфантильный питерский патриотизм, прорывающийся в непременном противостоянии Петербурга и Москвы. Причем столицу автор предположительно давно не навещал, иначе не обвинял бы город в грязи (с.335) - лужковская Москва отмыта нынче почище гельсингфорсского бомжа. Или, например, не бытовая, а вполне историко-литературная проговорка автора. Повествуя о "башне" Вяч. Иванова на Таврической, Пирютко сообщает: "Лидия Дмитриевна <Зиновьева-Аннибал> скончалась в 1907 году, а через пять лет Вячеслав Иванович навсегда покинул родину" (с.288). Действительно, в 1912-м семья Ивановых уехала за границу (Швейцария, Рим), а осенью 1913 года они возвратились, но поселились - в Москве. Конечно, если веровать, что patria - только СПб., тогда это неизбывно и - навсегда. Предугадано роковым питерским лексиконом.
Н.А.Громова. Эвакуация идет... 1941-1944. Писательская колония: Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата. - М.: Совпадение, 2008. - 447 с.
В своем "Питерском лексиконе" Пирютко утверждает, что программой николаевского правления был девиз, данный императором в герб графа Клейнмихеля: "Усердие все превозмогает". Хорошо, что такой сентенцией можно без всяких иронических и негативных обертонов оценить эту книгу.
Наталья Громова не обладает журналистски бойким пером - ее речь суховата, но надежна, тяжеловесна и основательна. Даже если бы ее собственный текст был еще более минимизирован, то и тогда книга не проиграла бы в своих качествах. Она крепко сколочена из дневников, писем, газетных статей и объявлений, прошений и записок - фактографически-документального материала. Громова тщательно переворошила государственные и семейные архивы, опросила и записала очевидцев, сделала тысячи выписок из книг и журналов. Поистине труд тяжкий и усердный. Многие материалы публикуются впервые, но даже если используются известные документы - не важно, существенно то, что в итоге коллажно смонтированное повествование абсолютно ново, свежо и интересно.
И это несмотря на то, что книга, в свою очередь, тоже сродни панельному строительству. Она скомпонована из двух прежде опубликованных (в 2002 и 2005 годах) и теперь значительно расширенных блоков. Вот что рассказывает о своей трудоемкой "окрошке" сама шеф-повар, Наталья Громова: "В этой книге объединены и дополнены два документальных повествования о писательской эвакуации: ташкентской и чистопольской. Одна - "Все в чужое глядят окно..." - была посвящена пребыванию писателей и их семей в Ташкенте и Алма-Ате, а другая - "Дальний Чистополь на Каме..." - жизни в Чистополе и Елабуге" (с.9).
А в 2006 году Громова издала еще одну документальную книгу (почти 700 страниц!) "из литературного быта конца 20-х - 30-х годов" - "Узел. Поэты: дружбы и разрывы". Интересно, каков сердечный девиз этого громокипящего кубка?
P.S. Особая благодарность - магазину "Фаланстер", предоставившему книги для обзора.